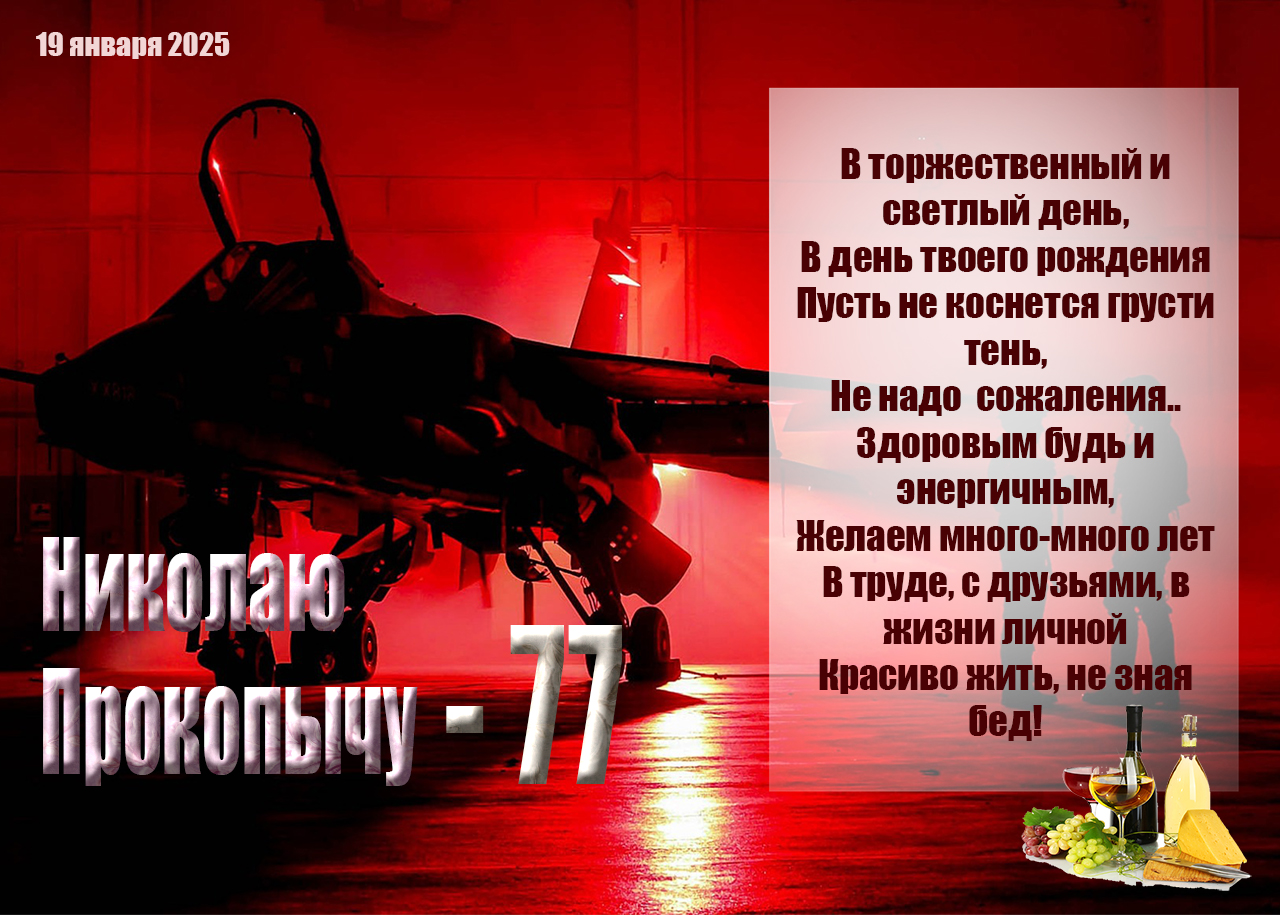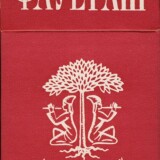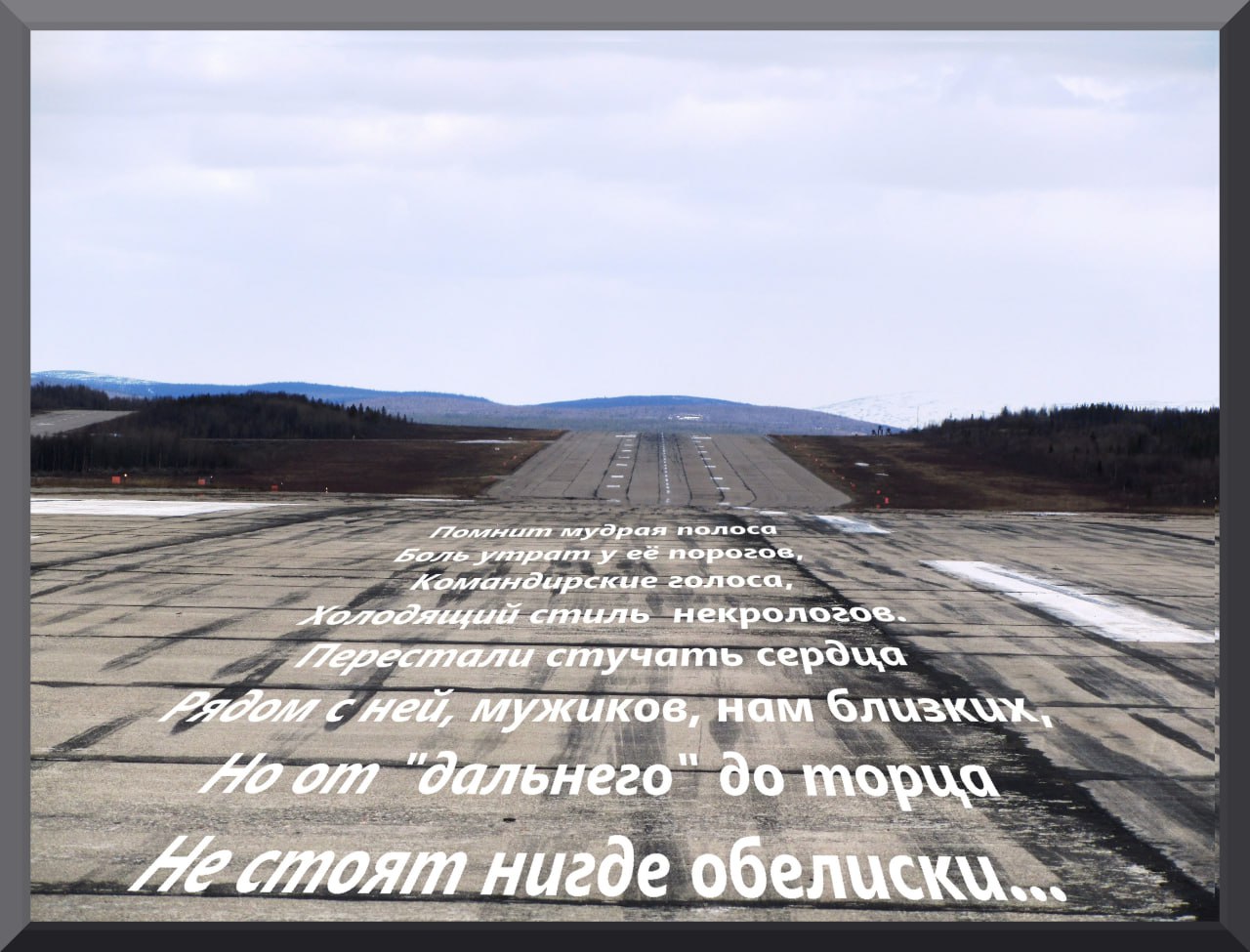Sibiryak
Старожил
Вы регулярно подбрасываете немы что вы несогласны? К чему это, что вы не такой? Это ваше право, живите
спокойно. Колебать это общество вашими умозрениями не очень продуктивно.
Вот тут мнение как раз о том, как "надо бы" и как "не надо бы".
И хотя ни "партии", ни самого того государства давно уже нет - сравнение тогдашнего и сегодняшнего отношения к "умозрениям" и "колебаниям" (о которых вы говорите) само-собой напрашивается...
О РАБОТАХ АПРЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ЦК и ЦКК
Доклад на собрании актива московской организации ВКП(б)
13 апреля 1928 г.
Характерной чертой в работе пленума, прений на пленуме и резолюций пленума является тот факт, что работа пленума от начала до конца прошла под знаком жесточайшей самокритики. Более того, ни один вопрос на пленуме, ни одно выступление не обошлись без критики недостатков нашей работы, без самокритики наших организаций. Критика наших недостатков, честная и большевистская самокритика партийных, советских, хозяйственных организаций, – таков общий тон работы пленума.
Я знаю, что в рядах партии имеются люди, недолюбливающие критику вообще, самокритику в особенности. Эти люди, которых я мог бы назвать «лакированными» коммунистами (смех), то и дело ворчат, отмахиваясь от самокритики: дескать, опять эта проклятая самокритика, опять выворачивание наших недостатков, – нельзя ли дать нам пожить спокойно? Ясно, что эти «лакированные» коммунисты не имеют ничего общего с духом нашей партии, с духом большевизма. Так вот, в связи с наличием таких настроений у людей, встречающих самокритику далеко не с энтузиазмом, позволительно спросить: нужна ли нам самокритика, откуда она взялась и какая от нее польза?
Я думаю, товарищи, что самокритика нужна нам, как воздух, как вода. Я думаю, что без нее, без самокритики, наша партия не могла бы двигаться вперед, она не могла бы вскрывать наши язвы, она не могла бы ликвидировать наши недостатки. А недостатков у нас много. Это надо признать открыто и честно.
Лозунг самокритики нельзя считать новым лозунгом. Он лежит в самой основе большевистской партии. Он лежит в основе режима диктатуры пролетариата. Если наша страна является страной диктатуры пролетариата, а диктатурой руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не может делить власти с другими партиями, – то разве не ясно, что мы сами должны вскрывать и исправлять наши ошибки, если хотим двигаться вперед, разве не ясно, что их некому больше вскрывать и исправлять. Не ясно ли, товарищи, что самокритика должна быть одной из серьезнейших сил, двигающих вперед наше развитие?
Лозунг самокритики получил особо сильное развитие после XV съезда нашей партии. Почему? Потому, что после XV съезда, ликвидировавшего оппозицию, создалась новая обстановка в партии, с которой мы не можем не считаться.
В чем состоит новизна обстановки? В том, что у нас нет или почти нет больше оппозиции, в том, что ввиду легкой победы над оппозицией, которая (т. е. победа) сама по себе представляет серьезнейший плюс для партии, в партии может создаться опасность почить на лаврах, предаться покою и закрыть глаза на недостатки нашей работы.
Легкая победа над оппозицией есть величайший плюс для нашей партии. Но она таит в себе свои особые минусы, состоящие в том, что партия может проникнуться чувством самодовольства, чувством самовлюбленности и почить на лаврах. А что значит почить на лаврах? Это значит поставить крест над нашим движением вперед. А для того, чтобы этого не случилось, нам нужна самокритика, – не та критика, злобная и по сути дела контрреволюционная, которую проводила оппозиция, – а критика честная, открытая, большевистская самокритика.
XV съезд нашей партии учел это обстоятельство, дав лозунг самокритики. С тех пор волна самокритики нарастает, накладывая свою печать и на работу апрельского пленума ЦК и ЦКК.
Странно было бы бояться того, что враги наши, враги внутренние, так же как и враги внешние, используют критику наших недостатков, подняв шум: ага, у них, у большевиков, не все обстоит благополучно. Странно было бы бояться всего этого нам, большевикам. Сила большевизма в том именно и состоит, что он не боится признать свои ошибки. Пусть партия, пусть большевики, пусть все честные рабочие и трудящиеся элементы нашей страны вскрывают недостатки нашей работы, недостатки нашего строительства, пусть намечают пути ликвидации наших недостатков для того, чтобы в нашей работе и в нашем строительстве не было застойности, болота, гниения, для того, чтобы вся наша работа, все наше строительство улучшалось изо дня в день и шло от успехов к успехам. В этом теперь главное. А там пусть враги наши болтают о наших недостатках, – такие пустяки не могут, не должны смущать большевиков.
Наконец, есть еще одно обстоятельство, толкающее нас к самокритике. Я имею в виду вопрос о массах и вождях. За последнее время у нас стали создаваться некоторые своеобразные отношения между вождями и массами. С одной стороны, у нас выделилась, исторически создалась группа руководителей, авторитет которых поднимается все выше и выше и которая становится почти что недосягаемой для масс. С другой стороны, массы рабочего класса прежде всего, массы трудящихся вообще поднимаются вверх чрезвычайно медленно, они начинают смотреть на вождей снизу вверх, зажмурив глаза, и нередко боятся критиковать своих вождей.
Конечно, тот факт, что у нас создалась группа руководителей, поднявшихся слишком высоко и имеющих большой авторитет, – этот факт является сам по себе большим достижением нашей
партии. Ясно, что без наличия такой авторитетной группы руководителей руководить большой страной немыслимо. Но тот факт, что вожди, идя вверх, отдаляются от масс, а массы начинают смотреть на них снизу вверх, не решаясь их критиковать, – этот факт не может не создавать известной опасности отрыва вождей от масс и отдаления масс от вождей.
Опасность эта может привести к тому, что вожди могут зазнаться и признать себя непогрешимыми. А что может быть хорошего в том, что руководящие верхи зазнаются и начнут смотреть на массы сверху вниз? Ясно, что ничего, кроме гибели для партии, не может выйти из этого. Ну, а мы хотим двигаться вперед и улучшать свою работу, а не губить партию. И именно для того, чтобы двигаться вперед и улучшать отношения между массами и вождями, надо держать все время открытым клапан самокритики, надо дать советским людям возможность «крыть» своих вождей, критиковать их за ошибки, чтобы вожди не зазнавались, а массы не отдалялись от вождей.
Иногда смешивают вопрос о массах и вождях с вопросом о выдвижении. Это неправильно, товарищи. Речь идет не о выдвижении новых вождей, хотя это дело заслуживает серьезнейшего внимания партии. Речь идет о том, чтобы сохранить уже выдвинувшихся и авторитетнейших вождей, организовав постоянный и нерушимый контакт между ними и массами. Речь идет о том, чтобы организовать в порядке самокритики и критики наших недостатков широкое общественное мнение партии, широкое общественное мнение рабочего класса, как живой и бдительный моральный контроль, к голосу которого должны внимательно прислушиваться авторитетнейшие вожди, если они хотят сохранить за собой доверие партии, доверие рабочего класса.
В этом смысле значение печати, нашей партийно-советской печати поистине неоценимо. В этом смысле нельзя не приветствовать инициативу «Правды» в деле организации «Листка Рабоче-крестьянской инспекции», ведущего систематическую критику недостатков нашей работы. Необходимо только постараться, чтобы критика была серьезной и глубокой, а не скользила по поверхности. В этом смысле следует также приветствовать инициативу «Комсомольской правды», буйно и задорно атакующей недостатки нашей работы.
Иногда ругают критиков за несовершенство их критики, за то, что критика оказывается иногда правильной не на все 100 процентов. Нередко требуют, чтобы критика была правильной по всем пунктам, а ежели она не во всем правильна, начинают ее поносить, хулить.
Это неправильно, товарищи. Это опасное заблуждение. Попробуйте только выставить такое требование, и вы закроете рот сотням и тысячам рабочих, рабкоров, селькоров, желающих исправить наши недостатки, но не умеющих иногда правильно формулировать свои мысли. Это была бы могила, а не самокритика.
Вы должны знать, что рабочие иногда побаиваются сказать правду о недостатках нашей работы. Побаиваются не только потому, что им может «влететь» за это, но и потому, что их могут «засмеять» за несовершенную критику. Где же простому рабочему или простому крестьянину, чувствующему недостатки нашей работы и нашего планирования на своей собственной спине, где же им обосновать по всем правилам искусства свою критику? Если вы будете требовать от них правильной критики на все 100 процентов, вы уничтожите этим возможность всякой критики снизу, возможность всякой самокритики. Вот почему я думаю, что если критика содержит хотя бы 5–10 процентов правды, то и такую критику надо приветствовать, выслушать внимательно и учесть здоровое зерно. В противном случае, повторяю, вам пришлось бы закрыть рот всем тем сотням и тысячам преданных делу Советов людей, которые недостаточно еще искушены в своей критической работе, но устами которых говорит сама правда.
И именно для того, чтобы не тушить самокритику, а развить ее, именно для этого необходимо внимательно выслушивать всякую критику советских людей, если она даже является иногда не вполне и не во всех своих частях правильной. Только при этих условиях могут получить массы уверенность, что им не «влетит» за несовершенную критику и что их не «засмеют» за некоторые ошибки их критики. Только при этом условии самокритика может получить действительно массовый характер и действительно массовый отклик.
Само собой понятно, что речь идет здесь не о «всякой» критике. Критика контрреволюционера является тоже критикой. Но она ставит своей целью развенчание Советской власти, подрыв нашей промышленности, развал нашей партийной работы. Ясно, что речь не о такой критике. Я говорю не о такой критике, а о критике, идущей от советских людей, критике, ставящей своей целью улучшение органов Советской власти, улучшение нашей промышленности, улучшение нашей партийной и профсоюзной работы. Критика нужна нам для укрепления Советской власти, а не для ее ослабления. И именно для того, чтобы укрепить и улучшить наше дело, именно для этого партия провозглашает лозунг критики и самокритики.
Чего же ждем, прежде всего, от лозунга самокритики, какие он может дать нам результаты, если он будет проведен правильно и честно? Он должен дать по крайней мере два результата. Он должен, во-первых, поднять бдительность рабочего класса, обострить его внимание к нашим недостаткам, облегчить исправление этих недостатков и сделать невозможными всякого рода «неожиданности» в нашей строительной работе. Он должен, во-вторых, поднять политическую культурность рабочего класса, развить в нем чувство хозяина страны и облегчить обучение рабочего класса деду управления страной.
Обратили ли вы внимание на то, что не только шахтинское дело, но и заготовительный кризис к январю 1928 года явились для многих из нас «неожиданностью»? Особенно характерно в этом отношении шахтинское дело. Пять лет работала контрреволюционная группа буржуазных спецов, получая директивы от антисоветских организаций международного капитала. Пять лет писались и рассылались нашими организациями всякого рода резолюции и постановления. Дело угольной промышленности у нас, конечно, шло все-таки вверх, так как советская система хозяйства до того жизненна и могуча, что она все же брала верх, несмотря на наше головотяпство и на наши ошибки, несмотря на подрывную работу спецов. Пять лет эта контрреволюционная группа спецов совершала вредительство в нашей промышленности, взрывая котлы, разрушая турбины и т. д. А мы сидели, как ни в чем не бывало. И «вдруг», как снег на голову, – шахтинское дело.
Нормально ли это, товарищи? Я думаю, что более чем ненормально. Сидеть у руля и глядеть, чтобы ничего не видеть, пока обстоятельства не уткнут нас носом в какое-либо бедствие, – это еще не значит руководить. Большевизм не так понимает руководство. Чтобы руководить, надо предвидеть. А предвидеть, товарищи, не всегда легко.
Одно дело, когда десяток-другой руководящих товарищей глядит и замечает недостатки в нашей работе, а рабочие массы не хотят или не могут ни глядеть, ни замечать недостатков. Тут есть все шансы на то, что наверняка проглядишь, не все заметишь. Другое дело, когда вместе с десятком-другим руководящих товарищей глядят и замечают недостатки в нашей работе сотни тысяч и миллионы рабочих, вскрывая наши ошибки, впрягаясь в общее дело строительства и намечая пути для улучшения дела. Тут больше будет поруки в том, что неожиданностей не будет, что отрицательные явления будут вовремя замечены и вовремя будут приняты меры для ликвидации этих явлений.
Нам нужно поставить дело так, чтобы бдительность рабочего класса развивалась, а не заглушалась, чтобы сотни тысяч и миллионы рабочих впрягались в общее дело социалистического строительства, чтобы сотни тысяч и миллионы рабочих и крестьян, а не только десяток руководителей, глядели в оба на ход нашего строительства, отмечали наши ошибки и выносили их на свет божий. Только при этом условии не будет у нас «неожиданностей». Но для того, чтобы добиться этого, нам нужно развить критику наших недостатков снизу, нам нужно сделать критику массовой, нам нужно воспринять и провести в жизнь лозунг самокритики.
Доклад на собрании актива московской организации ВКП(б)
13 апреля 1928 г.
Характерной чертой в работе пленума, прений на пленуме и резолюций пленума является тот факт, что работа пленума от начала до конца прошла под знаком жесточайшей самокритики. Более того, ни один вопрос на пленуме, ни одно выступление не обошлись без критики недостатков нашей работы, без самокритики наших организаций. Критика наших недостатков, честная и большевистская самокритика партийных, советских, хозяйственных организаций, – таков общий тон работы пленума.
Я знаю, что в рядах партии имеются люди, недолюбливающие критику вообще, самокритику в особенности. Эти люди, которых я мог бы назвать «лакированными» коммунистами (смех), то и дело ворчат, отмахиваясь от самокритики: дескать, опять эта проклятая самокритика, опять выворачивание наших недостатков, – нельзя ли дать нам пожить спокойно? Ясно, что эти «лакированные» коммунисты не имеют ничего общего с духом нашей партии, с духом большевизма. Так вот, в связи с наличием таких настроений у людей, встречающих самокритику далеко не с энтузиазмом, позволительно спросить: нужна ли нам самокритика, откуда она взялась и какая от нее польза?
Я думаю, товарищи, что самокритика нужна нам, как воздух, как вода. Я думаю, что без нее, без самокритики, наша партия не могла бы двигаться вперед, она не могла бы вскрывать наши язвы, она не могла бы ликвидировать наши недостатки. А недостатков у нас много. Это надо признать открыто и честно.
Лозунг самокритики нельзя считать новым лозунгом. Он лежит в самой основе большевистской партии. Он лежит в основе режима диктатуры пролетариата. Если наша страна является страной диктатуры пролетариата, а диктатурой руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не может делить власти с другими партиями, – то разве не ясно, что мы сами должны вскрывать и исправлять наши ошибки, если хотим двигаться вперед, разве не ясно, что их некому больше вскрывать и исправлять. Не ясно ли, товарищи, что самокритика должна быть одной из серьезнейших сил, двигающих вперед наше развитие?
Лозунг самокритики получил особо сильное развитие после XV съезда нашей партии. Почему? Потому, что после XV съезда, ликвидировавшего оппозицию, создалась новая обстановка в партии, с которой мы не можем не считаться.
В чем состоит новизна обстановки? В том, что у нас нет или почти нет больше оппозиции, в том, что ввиду легкой победы над оппозицией, которая (т. е. победа) сама по себе представляет серьезнейший плюс для партии, в партии может создаться опасность почить на лаврах, предаться покою и закрыть глаза на недостатки нашей работы.
Легкая победа над оппозицией есть величайший плюс для нашей партии. Но она таит в себе свои особые минусы, состоящие в том, что партия может проникнуться чувством самодовольства, чувством самовлюбленности и почить на лаврах. А что значит почить на лаврах? Это значит поставить крест над нашим движением вперед. А для того, чтобы этого не случилось, нам нужна самокритика, – не та критика, злобная и по сути дела контрреволюционная, которую проводила оппозиция, – а критика честная, открытая, большевистская самокритика.
XV съезд нашей партии учел это обстоятельство, дав лозунг самокритики. С тех пор волна самокритики нарастает, накладывая свою печать и на работу апрельского пленума ЦК и ЦКК.
Странно было бы бояться того, что враги наши, враги внутренние, так же как и враги внешние, используют критику наших недостатков, подняв шум: ага, у них, у большевиков, не все обстоит благополучно. Странно было бы бояться всего этого нам, большевикам. Сила большевизма в том именно и состоит, что он не боится признать свои ошибки. Пусть партия, пусть большевики, пусть все честные рабочие и трудящиеся элементы нашей страны вскрывают недостатки нашей работы, недостатки нашего строительства, пусть намечают пути ликвидации наших недостатков для того, чтобы в нашей работе и в нашем строительстве не было застойности, болота, гниения, для того, чтобы вся наша работа, все наше строительство улучшалось изо дня в день и шло от успехов к успехам. В этом теперь главное. А там пусть враги наши болтают о наших недостатках, – такие пустяки не могут, не должны смущать большевиков.
Наконец, есть еще одно обстоятельство, толкающее нас к самокритике. Я имею в виду вопрос о массах и вождях. За последнее время у нас стали создаваться некоторые своеобразные отношения между вождями и массами. С одной стороны, у нас выделилась, исторически создалась группа руководителей, авторитет которых поднимается все выше и выше и которая становится почти что недосягаемой для масс. С другой стороны, массы рабочего класса прежде всего, массы трудящихся вообще поднимаются вверх чрезвычайно медленно, они начинают смотреть на вождей снизу вверх, зажмурив глаза, и нередко боятся критиковать своих вождей.
Конечно, тот факт, что у нас создалась группа руководителей, поднявшихся слишком высоко и имеющих большой авторитет, – этот факт является сам по себе большим достижением нашей
партии. Ясно, что без наличия такой авторитетной группы руководителей руководить большой страной немыслимо. Но тот факт, что вожди, идя вверх, отдаляются от масс, а массы начинают смотреть на них снизу вверх, не решаясь их критиковать, – этот факт не может не создавать известной опасности отрыва вождей от масс и отдаления масс от вождей.
Опасность эта может привести к тому, что вожди могут зазнаться и признать себя непогрешимыми. А что может быть хорошего в том, что руководящие верхи зазнаются и начнут смотреть на массы сверху вниз? Ясно, что ничего, кроме гибели для партии, не может выйти из этого. Ну, а мы хотим двигаться вперед и улучшать свою работу, а не губить партию. И именно для того, чтобы двигаться вперед и улучшать отношения между массами и вождями, надо держать все время открытым клапан самокритики, надо дать советским людям возможность «крыть» своих вождей, критиковать их за ошибки, чтобы вожди не зазнавались, а массы не отдалялись от вождей.
Иногда смешивают вопрос о массах и вождях с вопросом о выдвижении. Это неправильно, товарищи. Речь идет не о выдвижении новых вождей, хотя это дело заслуживает серьезнейшего внимания партии. Речь идет о том, чтобы сохранить уже выдвинувшихся и авторитетнейших вождей, организовав постоянный и нерушимый контакт между ними и массами. Речь идет о том, чтобы организовать в порядке самокритики и критики наших недостатков широкое общественное мнение партии, широкое общественное мнение рабочего класса, как живой и бдительный моральный контроль, к голосу которого должны внимательно прислушиваться авторитетнейшие вожди, если они хотят сохранить за собой доверие партии, доверие рабочего класса.
В этом смысле значение печати, нашей партийно-советской печати поистине неоценимо. В этом смысле нельзя не приветствовать инициативу «Правды» в деле организации «Листка Рабоче-крестьянской инспекции», ведущего систематическую критику недостатков нашей работы. Необходимо только постараться, чтобы критика была серьезной и глубокой, а не скользила по поверхности. В этом смысле следует также приветствовать инициативу «Комсомольской правды», буйно и задорно атакующей недостатки нашей работы.
Иногда ругают критиков за несовершенство их критики, за то, что критика оказывается иногда правильной не на все 100 процентов. Нередко требуют, чтобы критика была правильной по всем пунктам, а ежели она не во всем правильна, начинают ее поносить, хулить.
Это неправильно, товарищи. Это опасное заблуждение. Попробуйте только выставить такое требование, и вы закроете рот сотням и тысячам рабочих, рабкоров, селькоров, желающих исправить наши недостатки, но не умеющих иногда правильно формулировать свои мысли. Это была бы могила, а не самокритика.
Вы должны знать, что рабочие иногда побаиваются сказать правду о недостатках нашей работы. Побаиваются не только потому, что им может «влететь» за это, но и потому, что их могут «засмеять» за несовершенную критику. Где же простому рабочему или простому крестьянину, чувствующему недостатки нашей работы и нашего планирования на своей собственной спине, где же им обосновать по всем правилам искусства свою критику? Если вы будете требовать от них правильной критики на все 100 процентов, вы уничтожите этим возможность всякой критики снизу, возможность всякой самокритики. Вот почему я думаю, что если критика содержит хотя бы 5–10 процентов правды, то и такую критику надо приветствовать, выслушать внимательно и учесть здоровое зерно. В противном случае, повторяю, вам пришлось бы закрыть рот всем тем сотням и тысячам преданных делу Советов людей, которые недостаточно еще искушены в своей критической работе, но устами которых говорит сама правда.
И именно для того, чтобы не тушить самокритику, а развить ее, именно для этого необходимо внимательно выслушивать всякую критику советских людей, если она даже является иногда не вполне и не во всех своих частях правильной. Только при этих условиях могут получить массы уверенность, что им не «влетит» за несовершенную критику и что их не «засмеют» за некоторые ошибки их критики. Только при этом условии самокритика может получить действительно массовый характер и действительно массовый отклик.
Само собой понятно, что речь идет здесь не о «всякой» критике. Критика контрреволюционера является тоже критикой. Но она ставит своей целью развенчание Советской власти, подрыв нашей промышленности, развал нашей партийной работы. Ясно, что речь не о такой критике. Я говорю не о такой критике, а о критике, идущей от советских людей, критике, ставящей своей целью улучшение органов Советской власти, улучшение нашей промышленности, улучшение нашей партийной и профсоюзной работы. Критика нужна нам для укрепления Советской власти, а не для ее ослабления. И именно для того, чтобы укрепить и улучшить наше дело, именно для этого партия провозглашает лозунг критики и самокритики.
Чего же ждем, прежде всего, от лозунга самокритики, какие он может дать нам результаты, если он будет проведен правильно и честно? Он должен дать по крайней мере два результата. Он должен, во-первых, поднять бдительность рабочего класса, обострить его внимание к нашим недостаткам, облегчить исправление этих недостатков и сделать невозможными всякого рода «неожиданности» в нашей строительной работе. Он должен, во-вторых, поднять политическую культурность рабочего класса, развить в нем чувство хозяина страны и облегчить обучение рабочего класса деду управления страной.
Обратили ли вы внимание на то, что не только шахтинское дело, но и заготовительный кризис к январю 1928 года явились для многих из нас «неожиданностью»? Особенно характерно в этом отношении шахтинское дело. Пять лет работала контрреволюционная группа буржуазных спецов, получая директивы от антисоветских организаций международного капитала. Пять лет писались и рассылались нашими организациями всякого рода резолюции и постановления. Дело угольной промышленности у нас, конечно, шло все-таки вверх, так как советская система хозяйства до того жизненна и могуча, что она все же брала верх, несмотря на наше головотяпство и на наши ошибки, несмотря на подрывную работу спецов. Пять лет эта контрреволюционная группа спецов совершала вредительство в нашей промышленности, взрывая котлы, разрушая турбины и т. д. А мы сидели, как ни в чем не бывало. И «вдруг», как снег на голову, – шахтинское дело.
Нормально ли это, товарищи? Я думаю, что более чем ненормально. Сидеть у руля и глядеть, чтобы ничего не видеть, пока обстоятельства не уткнут нас носом в какое-либо бедствие, – это еще не значит руководить. Большевизм не так понимает руководство. Чтобы руководить, надо предвидеть. А предвидеть, товарищи, не всегда легко.
Одно дело, когда десяток-другой руководящих товарищей глядит и замечает недостатки в нашей работе, а рабочие массы не хотят или не могут ни глядеть, ни замечать недостатков. Тут есть все шансы на то, что наверняка проглядишь, не все заметишь. Другое дело, когда вместе с десятком-другим руководящих товарищей глядят и замечают недостатки в нашей работе сотни тысяч и миллионы рабочих, вскрывая наши ошибки, впрягаясь в общее дело строительства и намечая пути для улучшения дела. Тут больше будет поруки в том, что неожиданностей не будет, что отрицательные явления будут вовремя замечены и вовремя будут приняты меры для ликвидации этих явлений.
Нам нужно поставить дело так, чтобы бдительность рабочего класса развивалась, а не заглушалась, чтобы сотни тысяч и миллионы рабочих впрягались в общее дело социалистического строительства, чтобы сотни тысяч и миллионы рабочих и крестьян, а не только десяток руководителей, глядели в оба на ход нашего строительства, отмечали наши ошибки и выносили их на свет божий. Только при этом условии не будет у нас «неожиданностей». Но для того, чтобы добиться этого, нам нужно развить критику наших недостатков снизу, нам нужно сделать критику массовой, нам нужно воспринять и провести в жизнь лозунг самокритики.